Наверное, каждый по молодости лет делал то, за что потом бывало стыдно. Особенно в том дурацком возрасте 15-17 лет, когда гормоны в крови стенка на стенку ходят, когда понты дороже денег, когда бешеные амбиции не компенсируются опытом, когда жизнь еще не била по голове действительно сильно, когда ведешься на банальное «слабо?», когда невозможно представить, что с тобой может случиться что-то действительно страшное…
«Тот самый дом» давно привлекал внимание нашей компании. Рассказы о привидениях, вампирах и прочих ужасах, которые ведутся при свечах в подвале каждым детским сборищем, всегда как-то переходили на него. «Дурное место» — так говорили все. Так говорили наши родители, строго-настрого запрещающие подходить даже к забору, так говорили бабушки на скамейках во дворе, так говорил местный сантехник-алкоголик Борисыч, который по причине бесконечного счастливого непросыхания был благостен, и потому находил в нас благодарных слушателей. Собственно Борисыч и поделился с нами сокровенной информацией — от родителей за вопросы о «том самом доме» можно было и по шее схлопотать. Ослабленная алкоголем память сантехника не удержала подробностей, но, тем не менее, душераздирающий рассказ о жившем в этом доме чудовищном маньяке, о погибших детях — наших сверстниках… Да, это было что-то. Конечно же, призраки невинно убиенных так и бродят по дому, конечно же, дух маньяка, который покончил с собой каким-то противоестественным методом (подробностей мы так и не узнали — хотя подлизывались к Борисычу, как могли) все еще ждет неосторожного, который попадет в его призрачные лапы… Простая классическая история, сюжет для малобюджетного голливудского триллера. Увы, в те времена еще не появились первые видеосалоны, и неиспорченное детское сознание впитывало такие сюжеты, как губка. Так что «тем самым домом» мы даже слегка гордились — не каждый район может похвастать собственными привидениями. Периодически кто-то из ровесников начинал хвастать, как он лазил в этот дом — и всегда врал. Максимум, на что хватало смелости детишек — швырнуть из-за забора камень в окно. А уж когда наш заводила Петька Доллар, попытавшись из особо мощной рогатки с оптическим прицелом расколотить окошко верхнего этажа, чуть не вышиб глаз лопнувшей резинкой, — его даже в офтальмологию возили и глаз еле спасли, — и эти покушения прекратились. Всякому понятно — просто так это не могло случиться! Тем более, что Доллар клялся и божился, что «резинка была — супер», и порваться ну никак не могла.
Верили ли мы во все эти ужасы? И да, и нет. Атеистическое мировоззрение, прививаемое нам в школе, иногда пересиливало природную склонность к суевериям, а иногда и нет. Согласитесь, ведь дом с привидениями — это так интересно! Сидя в любимом подвале (доступном нам попустительством Борисыча) при огарке свечи, мы жарким шепотом передавали друг другу подслушанные (а чаще придуманные) подробности того, как тот самый маньяк, в том самом доме… И, конечно, истории о том, как некий глупый мальчик (не из нашей школы, но мне его друг сам рассказывал!) залез-таки в этот дом, и нашли его наутро у забора, совершенно седым и мертвым (мягкий вариант — увезли в дурдом), и никто так и не узнал, что этот несчастный придурок там увидел…
«Тот самый дом» представлял собой довольно обычное трехэтажное строение дореволюционной постройки. Когда-то он, вероятно, принадлежал некоему купцу, возможно даже первой гильдии, или обнищавшему дворянину, или большой мещанской семье «среднего класса». Потом, после революции, большие залы поделили фанерными перегородками и сделали коммуналку с узкими и высокими гробиками комнат. Потом, при Хрущеве, вроде бы, часть перегородок снесли и сделали обычный многоквартирный дом. После истории с маньяком дом предназначили под снос (не знаю, связаны ли как-то эти два факта), жильцов выселили, но почему-то так и не снесли. То ли деньги, предназначенные на строительство на его месте торгового центра, быстренько разворовали, то ли у городских властей никак не доходили до него руки… Короче, дом стоял заброшенным уже лет десять. Бомжи в нем почему-то не селились, (впрочем, тогда, в самом начале перестройки, бомжей почти не было, да и само это слово вошло в обиход несколько позже) алкаши там не собирались, так что, в принципе, никому он особенно не мешал. Готовя здание под снос, строители обнесли его высоким деревянным забором — да так и оставили.
Из-за забора был виден только третий этаж, но если, подпрыгнув, вцепиться в верхний край и подтянуться — открывался весь дом целиком. На первом этаже некоторые окна были разбиты — особо рукастым детишкам удавалось добросить туда камень, но в целом дом выглядел еще довольно прочно. Облупившаяся, неприятно-белесого цвета штукатурка обнажала ржаво-красные стены из старого крошащегося кирпича, а мутные окна смотрели на мир сумрачно и подозрительно. Вообще, создавалось впечатление, что дом как-то нехорошо нахмурился — то ли перекосился слегка старинный фундамент, то ли так влияли на нас страшные рассказы… Но один странный факт можно было заметить при внимательном рассмотрении — как бы не полыхало жарой яркое летнее солнце, дом всегда производил впечатление некоего сумрака, как будто на него отбрасывало тень нечто невидимое. Заросший крепким ядреным бурьяном и репейником двор только подчеркивал это впечатление.
Наша компания с давним интересом поглядывала на этот «ужас нашего городка», но, наверное, мы так бы туда и не полезли, если бы… Впрочем, сначала, пожалуй, следует немного рассказать о самой компании. Шел 1985 год, по стране гремела первыми разрушительными залпами перестройка, а нам было по 15 лет. Заводилой и мотором нашей компании был Петька Доллар. Здоровенный парнище, косая сажень в плечах — типичный «русский богатырь», белокурый и голубоглазый. Особым интеллектом он не отличался и учился всегда через пень-колоду, переходя из класса в класс благодаря моей помощи — я учился как бы «за себя и за того парня», давая ему списывать контрольные и домашние задания и подсказывая у доски. Мы сидели за одной партой. Сравнение Доллара с мотором было далеко не случайным — не прочитав в жизни и десятка книг, Петька был природным гениальным механиком. Любое механическое устройство в его здоровенных ручищах моментально начинало работать, да так, как не снилось и его создателям. Уже в этом возрасте у него был собственный мопед, который он собрал собственноручно из всякого хлама, купленного на деньги, вырученные от проданных джинсов. За джинсы ему, естественно, здорово влетело, но на стабильный оптимизм это не повлияло никак. Однажды увидев в журнале «Техника молодежи» рисунок (даже не чертеж!) турбореактивного двигателя, он собрал подобное устройство при помощи обычного слесарного инструмента. Макет был размером с пивную бутылку, но оказался действующим — запущенное на смеси эфира с керосином, устройство оторвало тиски с верстака и пролетело метров пять, ударившись в стену гаража, где и погибло. Кому расскажи — не поверит, тем более, что сопроводительную статью в журнале он наверняка не читал, не будучи любителем разбирать буковки. Прозвище «Доллар» он заработал из-за отца — моряка торгового флота. Как-то раз Петька демонстрировал нам по страшному секрету запретные зеленые бумажки…
Кроме того, Доллар был знатным оружейником — самодельщиком. Его «усиленные» рогатки отличались повышенной точностью боя и пробивали лист фанеры, его пневматические винтовки, сделанные из велосипедных насосов, стреляли шариками от подшипников метров на сто и сбивали ворону влет, его жуткие самопалы, заряжавшиеся серой от спичек и обрезком толстого гвоздя, разбивали с десяти метров красный кирпич… если не взрывались сами. Удивительно, как ему удавалось уцелеть при этих экспериментах! Талант, одно слово. Впоследствии он стал известным байкером и погиб в какой-то бандитской разборке.
Мозговой центр компании — Док. Не слишком утруждая себя учебой, он был самым начитанным среди нас, причем его познания были энциклопедичны и неожиданны. В популярной тогда телеигре «Что-Где-Когда» он почти всегда угадывал ответ раньше «знатоков» и крайне редко ошибался. Ошибаясь же, злился и говорил, что вопрос был построен «некорректно» — он вообще любил заумные словечки. За это его в школе сильно не любили как учителя (которым он любил указывать на их ошибки и «нелогичные формулировки»), так и ученики, чувствующие его скрытое пренебрежение. Неоднократно его пытались бить, но быстро отстали. Не будучи особенно сильным, в драке Док зверел и, схватив наиболее тяжелый предмет из имеющихся в досягаемости, бил со всех сил, не прекращая сражаться, пока его не оттаскивали или не укладывали в нокаут. Короче, все скоро поняли, что с этим «шизанутым» лучше просто не связываться. Тем более, что если собраться толпой и его побить, то он непременно отыскивал участников побоища поодиночке и припоминал все по полной.
Самое же загадочное в нем было то, что он, как я сейчас понимаю, обладал некими паранормальными способностями (тогда я и слова-то такого не знал). Увлеченный читатель мистики и фантастики, Док имел встроенный в организм, как он сам выражался «дерьмометр». Этим «прибором» он всегда чувствовал грядущие неприятности и не раз вытаскивал нашу компанию из сложных ситуаций. Несмотря на то, что он никак не мог объяснить механизм своих предчувствий, мы привыкли ему верить — когда Док говорил: «Дерьмометр зашевелился, пора сваливать», мы не рассуждали и сваливали. И всегда он оказывался прав.
Впоследствии Док окончил философский факультет, а потом стал то ли колдуном, то ли целителем, затем уехал куда-то на Тибет и больше я о нем ничего не слышал.
Третий член нашей команды — Мозоль. Сие неблагозвучное прозвище образовалось из благородной польской фамилии Мозолевский. Впрочем, даже прозвище не компенсировало того, что Мозоль был красив как толкиеновский эльф. Хрупкий смазливый красавчик из породы людей, которые не мнут одежду и не пачкают лицо, даже копаясь в помойке. Тогда он был еще слишком молод, чтобы стать настоящим бабником, но девочки по нему сохли, как изюм. Не знаю, дрался ли он вообще когда-нибудь. С непоколебимым достоинством он ухитрялся выскальзывать из критических ситуаций, как намыленный. Его обаяние было просто неотразимо. Почему он прибился к нашей авантюрно-хулиганистой компании, до сих пор для меня загадка. Наверное, это казалось ему романтичным. Он вообще был романтик, наш Мозоль. Его представления о человеческих отношениях представляли странный коктейль из рыцарских романов и рассказов о пионерах-героях. Он целовал девочкам руки, переводил старушек через дорогу, занимался комсомольской работой и боролся со списыванием и подсказками на уроках. При этом он недрогнувшей изящной рукой метнул дымовую гранату (изобретение и изготовление — Петька Доллар) в форточку директора, а будучи пойман, молчал как партизан, никого не выдав. Человек-загадка.
После школы он поступил в МГИМО и уехал в какую-то заграницу. Свински напившись на прощальном вечере, я провожал его в аэропорт, где в последний раз и видел — стоя на трапе самолета, он помахал мне рукой. Через год его застрелил снайпер в какой-то горячей точке, где он был сотрудником посольства.
И, наконец, я — скромный рассказчик этой истории, имевший школьное прозвище «Штырь». Интересно, что происходило оно не от металлического прута, а от сокращения слова «Эйнштейн». Единственным предметом, в котором я блистал, была физика… Эйнштейн-Штейн-Штырь. Вот такая редукция. Я был той прочной, но ничем не выдающейся серединой, которая необходима в любой компании. На фоне своих ярких друзей я, наверное, смотрелся немного бледно, но мне было интересно с ними, и я не давал распасться этой компании отчаянных индивидуалистов. Боюсь, что их отношение ко мне было слегка покровительственным. Впрочем, меня это не обижало.
И еще была Она. Не имея никакого отношения к нашей буйной компании, она послужила первотолчком этой истории. Света Лазурская — девочка, при взгляде на которую у меня подгибались ноги и пропадал дар речи. Такой немыслимой красоты я никогда больше не видел и надеюсь, что не увижу. Кажется, мы всей командой были в нее влюблены, разве что непроницаемый Мозолевский либо устоял, либо ухитрялся никак не проявлять своих чувств. Самые безумные авантюры совершались именно в честь нашей дамы сердца, хотя мы никогда бы не признались в этом даже под пытками. С высоты взрослого опыта я вижу, что Свете льстило наше ненавязчивое поклонение, но она, ведомая врожденным женским инстинктом, вела себя с нами величественно и неприступно, лишь иногда снисходя до беседы. В этих беседах она рассыпала яд и перец на раны нашего самолюбия, подталкивая ко все новым подвигам в доказательство нашей крутости.
Так было и в этот раз. Укрывшись от дневного света в романтически-сумрачном подвале, мы — с десяток ребят и девчонок из близлежащих дворов — выслушивали с замиранием сердца очередную страшилку про «Тот Самый Дом». Кажется, это была банальная история о том, как некий мальчик («не из нашей школы, но мне его друг рассказывал») случайно перебросил свой мяч через ограду этого дома, но не полез за ним сразу, идиот, а почему-то дождался ночи и перебрался через забор… Когда подошел ожидаемый финал: «А утром его нашли у забора совершенно седым…», Мозолевский неожиданно ехидно добавил: «…и лысым!». Бешеный взрыв хохота поглотил недовольство рассказчика. И тут Она, наша Муза, подчеркнуто не глядя на нас, сказала: «Некоторые только и могут, что пытаться острить. А вот залезть и переночевать в Том Самом Доме небось всем слабо… Всегда знала, что все мальчишки трусливые хвастуны». И, гордо взмахнув тяжелой золотой косой, жестокая дама нашего сердца удалилась.
Мы были обречены.
Естественно, что после такого заявления нашей Музы, мы полезли бы даже черту в пасть. Это мы-то трусливые? Мы хвастуны? Ну нет, мы ей докажем! В конце концов, в привидения мы не очень-то и верили. Приятно пугать друг друга страшилками, но на самом деле — какие еще привидения в наш век мирного атома и транзисторных приемников? Учите физику!
Посмотрев друг на друга, мы синхронно вздохнули и полезли из подвала на улицу. Светочка, любовь наша неразделенная, сидела на лавочке неподалеку — знала она, что мы придем. Все понимала. Ах, как приятно в свои 15 девичьих лет такую власть над людьми иметь! Знать, что ради твоих прекрасных глаз готовы ребята в пропасть прыгнуть… В нашу сторону она не смотрела — что ей за дело до каких-то пацанов?
Наш геройский атаман, Петька Доллар, первым преодолел робость и, подойдя к лавочке, сказал:
— Ну, мы это, как бы, вроде… Короче, сегодня ночью полезем в Тот Самый Дом и, это, до утра просидим. Вот так.
Муза сморщила точеный носик:
– Врете небось?
– Чтоб я сдох! Скажи, пацаны?
Мы дружно закивали, соглашаясь с Петькой.
Светлана, подумав, решила сменить гнев на милость:
— Ладно, если не врете — тогда завтра все расскажете подробно. И — чтобы обязательно что-нибудь оттуда принесли. Что-нибудь особенное. А то не поверю!
Так, с простой детской подначки и тоскливой подростковой любви, началась эта история.
В ночной темноте Тот Самый Дом выглядел как монолитная глыба мрака. Сидя верхом на заборе, мы вглядывались в него до рези в глазах — было тихо. Не мерцали за пыльными стеклами жуткие огоньки, не раздавались из подвала тяжкие замогильные стоны, и даже ветер не шевелил заросли бурьяна. Дом как дом. Ночной и темный. Может, и правда, нет там ничего страшного?
— Ну что, ребята, пошли? — первым нарушил затянувшееся молчание Петька
И мы спрыгнули, впервые оказавшись с другой стороны заповедного забора.
Остаток дня перед безумным походом был проведен в лихорадочных сборах. Многомудрый Док раскрыл перед нами сокровищницу своей эрудиции и рассказал все, что он знал о методах борьбы с привидениями, вампирами, а так же, на всякий случай, с оборотнями и прочей нечистой силой. Вероятнее всего, он это почерпнул из каких-нибудь американских дешевых книжек-триллеров, а так же из любимых Эдгара По и Лавкрафта, Тем не менее, Доллар полдня трудился в своем гараже-мастерской, изготавливая снаряжение «охотников за привидениями». Теперь в наличии имелось три крупнокалиберных самопала, заряженных настоящим охотничьим порохом и серебряной картечью, напиленной из похищенной у его родителей ложки. Эти сооружения напоминали внешне дуэльные пистолеты прошлого века, но не имели никакого спускового механизма. Для произведения выстрела надо было чиркать спичечным коробком по вставленной в специальный паз спичке. Такие системы Петька называл «поджигник». Примерно с равной вероятностью такое оружие могло проделать здоровенную дырку в мишени или оторвать несколько пальцев стреляющему.
Так же были заготовлены два заботливо заточенных осиновых кола, — предположительно осиновых — с ботаникой у всех было плоховато. Док убедительно объяснил, что если забить такой кол в сердце ожившему мертвецу, то он нас больше не побеспокоит. Меня, признаться, больше волновал момент забивания. Были подозрения, что увидев ожившего мертвеца, я не буду искать, где у него сердце, а немедленно сам помру со страху. Тем не менее, приятная тяжесть массивного кола как-то успокаивала. В конце концов, им можно и по башке кого-нибудь треснуть. Даже если он и не вполне осиновый. Кроме этого, на шее у Дока висел на кожаной тесемке здоровенный медный старообрядческий крест, по поводу которого Док смущенно сказал: «Не подумайте чего, я так, на всякий случай…».
Входная дверь дома была заколочена крест-накрест толстенными досками. Похоже, что несмотря на прошедшие годы, доски ничуть не прогнили и держались вполне крепко. Впрочем, это была ожидаемая трудность, мы с самого начала собирались лезть через одно из разбитых окон.
Ошметками трухи посыпалась за шиворот старая краска с деревянной рамы. Запах тлена ударил в лицо как кулак: отсыревшее дерево, рыхлая штукатурка, гниющие ткани, разлагающаяся дверная набивка… И еще один запах — тяжелый запах звериного логова. Пропитанный сыростью коридор уводил во тьму впереди. Слева, к сумраку второго этажа, поднималась кривая расшатанная лестница. Отвалившиеся перила валялись, разбитые в щепки, на полу в коридоре. Среди хлама и мелкого мусора лежали какие-то мелкие белые обломки — я не сразу понял, что это тонкие косточки. Скорее всего, скелет дохлой кошки. Приглядываться не стал, поскорее переведя луч фонарика подальше. В тишине что-то быстро и глухо стучало, но я сообразил, что это отдается в ушах мое собственное сердцебиение.
— Чего-то я не понимаю… — сказал Док каким-то тусклым шепотом
— Чего? — с облегчением отозвался я, услышать рядом человеческий голос было чертовски приятно.
— Где стекла? Если окно разбито камнем снаружи, на полу должны быть стекла. Где они?
Чертов Шерлок Холмс. Стекла ему. Стекол действительно не было — покрытый толстым слоем пыли пол был достаточно замусоренным, но — ни кусочка стекла.
— Они снаружи, под окном лежат, — прошептал Мозоль — когда лезли, я на них наступил.
— Не нравится это мне, — ответил Док еще более тускло, но пояснять свою мысль не стал.
Справа была дверь. Открытая дверь в квартиру. Рядом с ней кто-то нарисовал бурой подплывающей краской изображение повешенного. Шутники, мать их… Не поленились краску притащить, художники… Мертвец на картинке болтался, как гнилой плод на высохшем дереве. За дверью виднелись короткий коридорчик и кухня. Вместо плиты и раковины из стен торчали ржавые отростки труб, но у дальней стены стоял на вздутом блеклом линолеуме старый холодильник. Его дверца была распахнута. Внутри засохла какая-то черная гадкая масса, издававшая резкий запах. Часть ее вытекла и разлилась по полу лужей, давным-давно превратившейся в засохшую корку. В распахнутой дверце кухонного шкафа я разглядел какие-то пыльные банки. Из одной торчала голова дохлой крысы. В свете фонаря показалось, что ее белесые глаза шевелятся, но присмотревшись получше я увидел, что в глазницах копошатся мелкие черви.
Следующая комната была когда-то большой гостиной, или столовой. Без мебели она казалась размером с бальный зал. С отслоившихся обоев издевательски смотрели какие-то звери — то ли собаки, то ли шакалы, а посередине стены той же бурой краской было нарисовано неприятного вида голое раскидистое дерево. На каждой ветке, как отвратительные яблоки, были тщательно прорисованы маленькие человеческие черепа. В центре зала на покоробившемся паркете валялась разбитая люстра. Среди рассыпанных стеклянных бусинок и пыльных подвесок крысиным хвостом извивался оборванный провод.
— Наверное, здесь этот маньяк и жил, — вполголоса сказал Петька, — а когда убивал очередного ребенка, пририсовывал его кровью новый череп…
— Заткнись, а? Не каркай! — оборвал его Док, — и так страшно…
— Пойдемте отсюда, не будем в этой квартире сидеть, — прошептал Мозоль, — лучше давайте второй этаж посмотрим.
Трухлявая деревянная лестница застонала под ногами почти человеческим, исполненным невыразимой муки, голосом. Впрочем, она казалась достаточно прочной, чтобы выдержать вес одного пятнадцатилетнего подростка. Поэтому поднимались по очереди. Первым шел, как самый тяжелый, Петька. Поднявшийся вторым, Мозоль исчез из поля зрения, но сразу же появился, перевесившись через край лестницы и бешено замахал руками. Глаза его были выпучены, а лицо в свете фонаря белело, как штукатурка. Не помня себя, я птицей взлетел наверх. На рассохшихся досках площадки второго этажа стоял перепуганный Мозоль. Один. Петьки не было.
Снова взвыла мерзким голосом старая лестница и к нам присоединился растерянный Док.
— А где Доллар?
— Н-н-не зн-н-наю… — у нашего красавчика Мозолевского отчетливо постукивали зубы.- я поднялся, а здесь пусто…
Желтоватые круги света от фонариков заметались вокруг. Лестница на третий этаж отсутствовала — пролет обвалился, оставив только пеньки трухлявых балок в стене. Вдаль уходил темный, засыпанный каким-то хламом коридор, в конце которого слабо светилось окно на улицу. На бледной штукатурке, прямо напротив лестницы, все тот же неизвестный художник изобразил грубо нарисованную могилу с покосившимся крестом.
— Ну все, начинается… — тихо и обреченно сказал Док, — больше не теряем друг друга из виду!
— Доллар! Ты где! — крик Дока увяз в затхлом вонючем воздухе, не породив эха.
Ответом была тишина.
Сказать, что мы испугались — ничего не сказать. Моя майка моментально прилипла к спине, а фонарик затрясся в руках мелкой дрожью. Впрочем, Мозоль выглядел не лучше. От вида его белого лица и стоящих дыбом волос мне стало совсем дурно. Док, однако, сохранял относительное спокойствие.
— Он жив, и он где-то рядом. Я чувствую. Ничего с ним не случилось, — я бы знал.
— Ага, испугались, храбрые следопыты! — Петькин радостный голос вернул нас к действительности.
Этот гад просто стоял за ближайшей дверью и наслаждался нашей паникой! Такое у него чувство юмора — ничего не поделаешь. Белый как мел Мозолевский на негнущихся ногах направился к нему, и мне показалось, что сейчас случится небывалое — наш красавчик впервые в жизни набьет кому-то морду. И этот кто-то будет, несомненно, Доллар, хотя он и крупнее раза в полтора. Док схватил Мозоля за майку и сказал:
— Стоп, все разборки потом. А ты, Доллар, просто идиот.
— Да ладно вам, что вы переживаете? Ясно же, что нет тут ни фига, кроме картинок на стенах. Уж и пошутить нельзя…
Осуждающее молчание. Петька ежился под нашими взглядами, в которых ясно читалось, что мы о нем думаем. Сколько знаком с Долларом, но к его неожиданным идиотским выбрыкам привыкнуть не могу. По-моему, у него просто не хватает воображения, чтобы по-настоящему чего-нибудь испугаться, поэтому он бесстрашен, как пьяный берсерк. Да и шуточки его нельзя назвать образцом тонкого юмора…
— Ну, что стоим? Давайте осмотрим здесь все! — Петька не умел долго расстраиваться.
Темный коридор отзывался на наши шаги резким скрипом рассохшихся половиц и маленькими облачками пыли. Выходящие в него двери квартир были заперты.
— Давай сломаем замок! — неуемный Доллар жаждал действия.
— Ничего мы ломать не будем! Наша задача — досидеть до утра, а не мародерствовать.
В голосе Дока мне почудилось что-то странное. Да и выглядел он так, как будто у него сильно болел живот. Я тихо толкнул его в бок и шепотом спросил:
— Как твой дерьмометр, чего показывает?
Док посмотрел на меня искоса и тихо сказал:
— Стрелка где-то между «глубокая задница» и «полные кранты». А что толку?
Возразить было нечего: назвался груздем, не говори, что не дюж. До утра придется сидеть, даже если сюда явится Граф Дракула во главе взвода эсэсовцев верхом на Кинг-Конге. Слово есть слово.
Учесавшие вперед и энергично дергавшие ручки запертых дверей Доллар с Мозолем неожиданно остановились и замахали руками, подзывая нас. Очередная дверь была не заперта. Более того, она была приглашающе приоткрыта. Почему-то мне это сразу не понравилось. Я не Док, и встроенного дерьмометра у меня нет, но что-то было неправильно — все двери заперты, а эту как специально для нас приготовили. Высказать свои соображения я не успел — Петька без тени сомнения перешагнул порог.
Коротенький коридорчик упирался в пустую кухню. Повсюду была мерзость запустения — посередине лежала табуретка без ножки, на месте вырванных розеток торчали из стены белые червяки проводов, а на окне свисали лоскутами содранной кожи остатки потерявших цвет занавесок.
— Пусто, — разочарованно сказал Петька, — давайте в комнатах посмотрим.
Первая дверь просто отсутствовала — в проеме была видна большая комната со свисающими со стен обрывками обоев. Вторую слегка перекосило, и на нее пришлось приналечь могучим плечом Доллара — с душераздирающим скрипом она провернулась на ржавых петлях, открыв нашим взглядам, несомненно, детскую. В нос шибанул затхлый запах склепа. Удивительно, но в комнате была мебель — покрытый мерзкой зеленой плесенью диван с расползшейся обивкой, маленький покосившийся письменный стол и даже платяной шкаф без дверей. На обоях плясали веселые гномики в обнимку с медвежатами, и присутствовали темные квадратные пятна от картин. И еще одно пятно — точно посередине стены — странной, но какой-то смутно знакомой формы.
Мозолевский неожиданно издал тихий горловой звук и резко шагнул вперед, уставившись на стену. Вид у него был, как у человека, увидевшего в газете свой некролог.
— Я видел, — тихо сказал он, — я это все видел.
— Где? — отреагировал Петька.
— Во сне видел. Я знаю… — неожиданно Мозоль повернулся к Доку и сказал, — дай крест.
Док молча потянул с шеи тесемку и подал крест. На лицо его при этом лучше было не смотреть — похоже, что он размышлял над тем, убежать ли сразу, или сначала треснуть Мозоля по голове осиновым колом и посмотреть, что будет…
Мозолевский медленно подошел к стене и приложил большой медный крест к странному пятну — контур совпал. Вытянув вверх тесемку, он привстал на цыпочки и зацепил ее за маленький, почти невидимый гвоздик. Крест висел точно на своем месте.
— Я это видел во сне, — еще раз повторил он, — и, кажется, не один раз. Только забывал сон все время. А теперь вспомнил.
Все молча смотрели на висящий крест.
— И что еще ты в этом сне видел? — спросил Док. Голос его был как у человека с сильной ангиной.
— Я во сне поднимался на третий этаж, в мансарду, открывал дверь и видел что-то важное… Но что именно — не помню. Всегда на этом месте просыпался.
— Ну, третий этаж нам не светит — лестница обвалилась, — с облегчением сказал я.
— А я не по этой лестнице поднимался. Во сне там была еще одна лесенка, в другом конце коридора, за коричневой дверью, — ответил Мозоль.
— Откуда у тебя этот крест, Док? — Доллар задал вопрос, который вертелся на языке у всех.
Док почти неуловимо замялся, как будто раздумывая, не соврать ли? Но потом тряхнул головой и сказал:
— Светка дала.
— Когда это? — вопрос прозвучал довольно резко, в отношении нашей Музы мы были взаимно немного подозрительными.
— Вечером. Я уже шел к вам, и тут она мне навстречу, будто специально искала. Спросила, действительно ли мы в Тот Самый Дом собрались. Ну, я сказал, что все серьезно, но чтоб она не зазнавалась — не из-за ее прекрасных глаз, мол, а потому, что давно пора посмотреть. Тогда она достала этот самый крест и говорит что-то вроде того, что он нам там пригодится. Ну я и взял — почему бы и нет?
— Не думал, что Светка в Бога верит… — сказал Петька.
— Тут, похоже, не так все просто… Откуда у нее именно этот крест? — задумчиво пробормотал Док.
Мозоль между тем стоял и молча, как кролик на удава, пялился на стену. Петька подошел и крепко взял его за плечо.
— Ну, Мозоль, кончай — мало ли что приснится! Мне вот надысь приснилось, что мне училка по пению в любви объясняется и в штаны руку сует… Просыпаюсь — нет, не училка. Это я сам…
Мозолевский продолжал молчать.
— Ну ладно, ну хочешь, пойдем и посмотрим, есть ли там твоя лестница! — видно было, что неожиданная идея привела Доллара в восторг.
— Да, наверное… — тихо сказал Мозоль.
— Я бы, на вашем месте, никуда не ходил., — медленно и отчетливо произнес Док.
— Да иди ты, командир выискался! — не унимался Петька, — пошли, Мозоль, надо же наверняка выяснить, что это за сны тебе снятся!
— Может все-таки не надо? — осторожно сказал я, — может утра дождемся?
— Ну вы, блин, и трусы! Пошли Мозоль, пусть они нас тут ждут!
Мозолевский молча повернулся и направился к двери. Лицо его мне крайне не понравилось — с таким лицом выходят к доске на экзамене, когда в пустой голове только стыд и страх перед комиссией.
Я с тяжелым вздохом направился было за ними, но Док придержал меня за плечо.
— Не спеши. Здесь в этой комнате есть что-то важное. Я чувствую. Пусть идут, придурки…
Ага, а наш интеллектуал-то обиделся! Кому понравится, когда трусом обзовут, даже если обзывает такой известный обалдуй, как Доллар…
Док медленно огляделся и осторожно подошел к стене. Подвигал крест туда-сюда по обоям, потом приподнял и заглянул под него.
— Иди сюда! Смотри!
Я подошел поближе и посветил фонариком. Не сразу, но разглядел то, что показывал мне Док — на обоях, точно под крестом, была нарисована шариковой ручкой стрелка, указывающая вниз.
— Ты что, думаешь, здесь клад? — спросил я
— Давай диван отодвинем. Там разберемся, что за клад…
Массивная плесневелая мебель при первой же попытке сдвинуть ее с места тяжко рухнула на подломившиеся ножки и распалась на части. Из дыры в обивке неожиданно выскочила здоровенная, как сарделька, многоножка и побежала у меня по руке. Тут я, как говорится, «потерял лицо» — ненавижу все многоногое и быстробегающее… Так что я самым дурным образом заорал, пытаясь стряхнуть с руки эту белесую мерзость. Не то, чтобы я боялся, что она меня укусит, — само ощущение от бегущей по коже шустрой твари было непереносимо. Если бы она забралась под рубашку, я бы, наверное, умер от омерзения. К счастью, от моих диких прыжков насекомое свалилось и закрутилось посреди комнаты. Я даже не мог заставить себя ее раздавить — отвращение было непередаваемое, и я еще секунд десять орал просто по инерции. Когда Док хладнокровно наступил на нее кедом, от хрустяще-чавкающего звука меня чуть на вырвало. Я стоял и трясся, покрытый мурашками размером с кулак — меня всего передергивало. Док к чему-то внимательно прислушивался, потом сказал:
— Нашли, значит. Почему-то я так и думал.
— Ч-что на-а-шли? — я никак не мог справится с дрожью.
— Лестницу ту самую. Ну, которую Мозоль во сне видел.
— Почему ты так решил? — дрожь постепенно унималась, но соображалка еще не работала.
— Если бы они были еще на этом этаже, то, услышав грохот дивана и твой вопль, уже неслись бы галопом. Сюда, или отсюда — не знаю, но неслись бы точно.
— И что?
— А ничего, сюда гляди!
За руинами дивана открылся участок вспученного паркета. Приглядевшись, я понял, на что показывает Док — одна паркетина встала торчком, и под ней виднелась темная полость. Забрав из моей все еще подрагивающей руки фонарик, Док посветил в отверстие, потом медленно и аккуратно засунул туда руку. Когда он встал с колен, в его руках была обыкновенная общая тетрадь в черном клеенчатом переплете. Страницы ее слегка покоробились и попахивали плесенью. Док бережно открыл первую страницу и посветил на нее фонариком. Потом протянул тетрадь мне.
— Читай!
На первой странице были нарисованы разноцветными ручками несколько цветочков и сердечек, и аккуратным девичьим почерком было выведено: «Секретный дневник Лены Лазурской. Кто прочитает, тот последний подлец.» Впрочем, последняя фраза была несколько раз перечеркнута — явно позднее и чернилами другого цвета.
— Лазурской? — обалдел я, — ничего себе совпадение…
— Какое совпадение? — злобно зашипел на меня Док, — ты что, так ничего и не понял? Это же дневник ее старшей сестры!
— Но у нее нет сестры…
— Теперь нет. Но была — на десять лет старше. Мне Борисыч говорил. До меня только сейчас дошло, что они раньше в этом доме жили…
Док, не обращая внимания на грязь и пыль, уселся на пол и начал листать страницы.
— Так, чушь всякая… Цветочки, стишочки — девчонкины страсти… Неужели ничего… Ага, вот, кажется оно:
Сегодня утром хоронили Сережу. Никогда не забуду его лицо, когда он лежал в гробу. Не хотела смотреть, но не могла удержаться… Эта маска смерти на таком знакомом лице… Он совсем не был похож на спящего. Никогда больше не пойду ни на чьи похороны! Лучше помнить человека живым. Теперь я вспоминаю не Сережу, а только это страшное белое лицо в гробу…
Не могу поверить! Этого просто не может быть! Он был такой робкий — тихий интеллигентный мальчик, играл на скрипке и прекрасно рисовал… Как он мог так поступить? Взять, и перерезать себе вены… Он же боялся крови до обмороков! Как это могло случиться? Мне иногда кажется, что его каким-то образом убили… Но следователь сказал, что никаких сомнений нет — ванная была закрыта изнутри. Говорят, он разрезал себе обе руки лезвием от безопасной бритвы, которым точил карандаши, и лежал в ванне, полной крови…
Следователь долго говорил со мной — спрашивал, не был ли Сергей К. каким-нибудь странным? Не заметила ли я чего-нибудь необычного в его поведении в последние дни перед ЭТИМ? Он явно подозревал, что Сережа был в меня влюблен и покончил с собой из-за этого. И не он один так думает, к сожалению. Я вижу, как на меня смотрят некоторые ребята в классе… Чепуха, боже, какая чепуха! Не был он в меня влюблен. Да, мы вместе ходили рисовать на природу — он отлично рисует… Рисовал… Никак не могу привыкнуть к прошедшему времени и к тому, что он больше ничего не нарисует… Он собирался стать художником, а я училась у него рисовать. Он не был в меня влюблен! Слышите вы, все! Не был! Он всегда был не от мира сего, он на меня и не смотрел почти. Меня это даже немного обижало. Его интересовали только его картины — он даже ходил к нашему учителю рисования на дополнительные занятия. И вот теперь — все… Смерть — это ужасно. Наверное, раньше, до революции, людям было легче — они верили в бога и думали, что попадут в рай. Теперь мы знаем, что все умирают навсегда. Неужели и я когда-нибудь буду так же лежать, белая и страшная в деревянном гробу? Наверное, если я буду старая, мне будет не так страшно умереть?
Сегодня ко мне подошел после урока рисования наш учитель. Он спросил, действительно ли я рисовала вместе с Сережей? Я сказала «да». А что тут такого? Тогда он предложил мне приходить к нему по выходным и учиться рисовать. Оказывается, к нему многие ходят, и девочки и мальчишки. Он вообще увлеченный человек, наш учитель. Увлеченный и немного странный — настоящий художник. Даже на уроке одевает свой фиолетовый берет и передник, ставит себе мольберт и, дав нам задание, рисует сам. Я как-то посмотрела — удивительные наброски класса, сидящих учеников… Такие точные зарисовки лиц! Даже немного страшно, что человек может тебя так тщательно рассмотреть — на лице как будто отражается все что есть в душе. Пойду к нему в субботу.
Наверное, я немножечко влюблена? Нет, наверное нет — что может быть глупее, чем влюбляться в учителя? Это просто легкое увлечение, не так ли? Но он такой талантливый! Так умеет объяснить, подсказать, так чувствует свет и тень! Он, наверное, великий художник, просто не хочет быть знаменитым. Это правильно — слава мешает истинному таланту. И он совсем не старый! Конечно, он намного старше меня, но разве это важно? Главное в человеке — талант… Почему у меня нет таланта? Хотя, может быть, я его еще не нашла, свой талант? Я тоже хочу уметь рисовать так как он.
Пока я делала набросок вазы, он поставил в углу свой мольберт и начал рисовать сам. Я спросила, что он рисует, а он ответил, что мой портрет. Как интересно! Может быть, я ему тоже немножко нравлюсь? Ужасно хочется посмотреть, но он не разрешает — говорит, что пока портрет не закончен и не подписан его нельзя никому показывать — примета такая. Надо же, такой взрослый человек, а верит в приметы!
Какая я была глупая! Он, оказывается, рисует портреты всех, кто к нему ходит в художественный кружок. Мне Оля сказала — она тоже у него занимается. Надо же быть такой дурой! Ах, я ему нравлюсь, ах, портрет… Глупости это все и мещанство. Главное — учиться рисовать, а не думать о всякой ерунде. И ничуть я в него не влюблена — это просто обаяние талантливой личности, как у Пушкина. В Пушкина все женщины были влюблены, а ведь он был совсем некрасивый!
Просто человек любит рисовать портреты. Он же художник! Раз уж он Олю рисует… Что он нашел в этой толстухе? И еще она глупая. Только и может своими коровьими глазами на него таращиться… И рисую я лучше. Она сказала, что ее портрет вот-вот будет готов, может быть даже завтра, но она мне его не покажет! Нашла чем уязвить! Она там наверняка изображена в виде коровы в хлеву! Или где там коровы живут? Нет, кажется в хлеву — это свиньи. Ну и хорошо, значит ей там самое место. Хрюшка розовая — волосенки белесые, ресниц почти не видно и — толстая! Толстая-толстая! Как бегемот.
Какая я дрянь! Я так плохо думала про Олю, а теперь ее нет! Ну и что, что она была толстая? Разве можно так о людях думать? Я злая мелкая дрянь.
Боже мой, но кто мог подумать, что Оля покончит с собой? Мы не были подругами, но это так ужасно! Она спрыгнула с десятого этажа прямо на забор — мальчишки шептались, что ее насквозь пропороло кольями, что голова лопнула как арбуз и все внутренности вылезли… Говорят, хоронить будут в закрытом гробу… Бедная Оля… Никогда, никогда не буду думать о людях плохо!!! Она же так боялась высоты! В бассейне прыгнуть с вышки не могла. А я еще смеялась, что если она прыгнет, то вся вода выплеснется… Как я могла! Она же тоже человек, ей же было обидно и она потом плакала в раздевалке. Наверное ее и сейчас кто-то обидел, раз она сделала с собой такое! Теперь девчонки между собой говорят, что это я ее задразнила до смерти… Неправда, это неправда! Я ее не видела уже три дня! В художественный кружок мы ходим в разное время, а во двор она не выходила. Теперь на меня все косятся. Не буду никому ничего доказывать! Мне ее жалко…
Не знаю, что со мной творится. Мне уже третью ночь снится один и тот же ужасный сон. Он такой удивительно яркий и подробный — никогда раньше не видела таких снов. Во сне я иду в ванную и снимаю бельевую веревку. Веревка не отвязывается, и я беру папин бритвенный станок, разбираю его и отрезаю лезвием узел. Я отчетливо вижу это лезвие в своей руке, визу засохшие кусочки мыльной пены и короткие обрезки волос, вижу, как медленно и неохотно режется заскорузлый узел — волокно за волокном, и остается такой разлохмаченный конец веревки… Потом я иду в кладовку — дверь в нее в моей комнате, и, пододвинув сундук к стене, влезаю на него. Потом привязываю веревку к крюку — на нем никогда ничего не висело, потому, что он под самым потолком. Папа как-то раз пытался его выдернуть, но крюк вмурован глубоко в стену. Похоже, он там с самой постройки дома. Я во сне каждый раз думаю про этот крюк, про то, какой он старый и крепкий, но никак не могу подумать о том, что я делаю. Я завязываю на веревке скользящую петлю и продеваю в нее голову. Где-то внутри меня трясет от ужаса, но во сне я точно знаю, что так надо. Просто надо — непонятно почему. Поэтому, когда петля на моей шее, я испытываю какое-то неприятное облегчение — как будто я выполнила сложное задание по математике. Чтобы продеть голову в петлю мне приходится вставать на цыпочки — веревка короткая. Я все это вижу совершенно отчетливо, как будто это не сон, а страшное кино, которое почему-то снимают про меня. Потом я прыгаю с сундука и просыпаюсь. Просыпаюсь в ужасе, вся в поту, и даже горло слегка побаливает. Что со мной творится? Я же не сошла с ума? Говорят, что когда сходишь с ума, тебе кажется, что все нормально… Но я же чувствую, что ненормально! Мне страшно! Я стала бояться заходить в кладовку. А когда приходится зайти, опускаю голову, чтобы не смотреть на этот ужасный крюк. Но мне все время хочется на него посмотреть!! И одновременно я боюсь…
Сегодня опять была в мансарде у учителя рисования. Рисовала засушенный букет полевых цветов. Учитель говорит, что у меня получается все лучше и лучше. Может быть, у меня все-таки есть талант? Ведь говорят, что талант — это 90% труда, а я так стараюсь! Учитель продолжает рисовать мой портрет, говорит, что скоро будет совсем готов. Он все-таки красивый. Или нет? Когда он рисует меня, у него становятся такие странные глаза… Мне даже немного страшно.
Ерунда все это! Какие там «страшные глаза»… Разве могут быть глаза страшными? Просто там такое освещение в мансарде. Наверное.
Что со мной творится? Опять этот сон. Я уже боюсь ложиться спать. Вчера вечером выпила три чашки кофе, пока мама не видит. Решила, что не буду спать, а буду готовиться к контрольной. Сидела до полуночи, а потом, видимо, задремала над учебником.
Так вот, не знаю, даже, как это написать… Я проснулась в ванной! Я стояла босиком перед раковиной и разбирала папину бритву. Я не знаю, зачем я это делала! Удивительно, что я не порезалась. Может быть, я лунатик? Я читала про лунатиков, что они ходят во сне и делают всякие странные вещи. Но я же все-таки проснулась? Говорят, лунатики не просыпаются. Что со мной? Мне так страшно…
Я бы рассказала маме, но боюсь, что она отправит меня в дурдом. Она так верит в «современную медицину»! А как я потом появлюсь в классе? Меня же со свету сживут! Будут звать «Ленка из психушки», и это в лучшем случае…
Сегодня на перемене прибежал Васька и сказал, что умер Андрей Симонов из 8-го «б». Отравился. У него отец — ветеринар. Так вот, он, якобы, утащил у него из клиники шприц с ядом, которым усыпляют больных собак, заперся в подвале и вколол его себе в руку. Когда сломали дверь, он был уже мертвый.
Я почти не знала этого Андрея — так, видела в коридоре на переменах, знаю только, что он тоже ходит в художественный кружок. По крайней мере, никто на этот раз не скажет, что это из-за меня… Но какой ужас! Почему он так с собой поступил? Симпатичный был мальчик и учился хорошо. Неужели из-за несчастной любви? Что-то не был он похож на человека, который может покончить с собой из-за любви. Нормальный парень — вчера только встретила его на улице. Выглядел он обыкновенно — разве что сильно невыспавшимся, а ведь он уже в это время утащил яд. Может быть, он как раз шел из клиники и шприц был у него в кармане. Ужас. Как может человек вот так взять, и хладнокровно убить себя? Нет, я понимаю, если разведчик, которого поймали враги, убивает себя, чтобы не выдать под пытками товарищей, но чтобы просто так, ни с того ни с сего… Чего-то я не понимаю в этой жизни…
Вчера вечером со мной произошел странный случай. Я уже легла в постель, но спать не хотелось. Лежала и вспоминала последний урок рисования. Я сидела в мансарде и пыталась сделать приличный набросок гипсовой головы, а учитель как всегда стоял в своем углу за мольбертом и рисовал мой портрет. Однако я разглядывала не столько эту дурацкую гипсовую башку, сколько самого учителя. Я пыталась представить, как бы я рисовала его портрет. Кажется, я непроизвольно начала вместо гипсового болвана набрасывать на бумаге его черты. Особенно, его странные глаза — они, кажется, меняют цвет в зависимости от освещения. В тот момент, они были черные, как два колодца. Я пыталась передать карандашом выражение этих глаз — и увлеклась. Он, видимо, заметил, потому что вдруг страшно закричал: «Прекрати немедленно, что ты делаешь!». Я ужасно испугалась, уронила карандаш и чуть не убежала. Но он уже подошел ко мне и сказал ласково: «Если хочешь стать великим художником, никогда не отвлекайся от объекта, который рисуешь. Смотри только на него, живи им, представь себе все — как он появился на свет, как прожил свою жизнь и как умрет. Особенно, как умрет…»
Тогда я была слишком напугана его неожиданным криком — он до этого никогда не повышал голоса, ни здесь ни в классе — чтобы вдуматься в то, что он мне говорил, а теперь лежала в постели и вспоминала. Перед моим мысленным взором маячили его черные глаза, в которых как будто клубилась странная тьма… И вдруг я зачем-то встала с постели и пошла в кладовку. При этом я не спала, нет! Я просто ни о чем не могла думать, кроме этих глаз. Так, не думая, я открыла дверь и стала двигать к стене этот проклятый сундук — но он не двигался, слишком тяжелый. В нем лежат всякие старые книги и я так и не смогла его сдвинуть. И в этот момент меня как будто отпустило — я пришла в себя и поняла, что стою босиком в кладовке и вся перемазалась в пыли. Я отчетливо помнила все, что делала, но не могла понять зачем…
Пришлось идти в ванную мыть руки. Там мне очень захотелось взять с полки бритву, так сильно, как иногда хочется почесаться — но я переборола себя. Что со мной происходит? Завтра все расскажу маме. Пусть меня лучше в дурдом положат… МНЕ СТРАШНО! Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ МОГУ!
Я пыталась. Сегодня пришла в кухню, стояла и смотрела, как мама режет капусту для салата. Я хотела ей все рассказать. Я просто не смогла. У меня как будто перехватывало дыхание, и я не могла произнести ни слова. Просто никак. Это было ужасно ощущение — полное бессилие, как будто меня заколдовали, как в детской сказке. Тогда я пошла и рассказала все Светке. Она ничего не поняла — ей же всего пять лет — но почувствовала, что мне плохо, и зарыдала. Я тоже не смогла удержаться и заплакала. Мы сидели на диване и рыдали вдвоем. Ну почему я ничего не могу с собой поделать?
Мне так страшно, что в голову лезут всякие дурацкие мысли. Я даже полезла в комод и достала бабушкин медный крест. Повесила его на шнурке на стену. Не то чтобы я думаю, что это поможет, но вдруг? Ведь происходит что-то очень странное. Странное и страшное. Может я все-таки сошла с ума?
Сегодня я опять обнаружила себя стоящей в кладовке. Я же собиралась делать уроки? Я шла к столу, а оказалась здесь. Почему-то книги из сундука выложены и аккуратно расставлены на полке. Зачем? И кто это сделал? Родители не заходили в мою комнату. Неужели это я? Но когда? И почему я этого не помню?
Руки мои в пыли.
Я все знаю. Я знаю, что происходит, но кто мне поверит?
Вчера я впервые в жизни прогуляла школу. Я просто не могла туда идти — голова совершенно не соображает. Передо мной постоянно крутится этот жуткий крюк и глаза… Эти глаза, которые как колодцы темноты. В таких колодцах нет воды, только змеи и скорпионы. Теперь я это знаю. Я дождалась, пока все уйдут и вернулась домой. Я поднялась в мансарду по задней лестнице. Дверь была закрыта, но у этого замка можно отжать язычок линейкой. Наверное, я поступала неправильно, но мне было уже все равно. Мой портрет стоял на мольберте в углу, завешенный белой тряпкой. У меня было ощущение, что мне можно все — я как будто уже умерла. Откинув ткань я увидела… Увидела. Это была не картина — это была распахнутая дверь. Дверь в мою кладовку. Там, на крюке, в белом платье висела на бельевой веревке я. Волосы заплетены в косички с белыми бантами, босые ноги почти касаются сундука…
Вот эта картина, стоит передо мной. Я забрала ее из мансарды. Но перед этим я открыла там шкаф. Почему-то я точно знала, где искать, и что там найду. За грудами школьных плакатов и каких-то журналов лежали три картины. На первой был Сережа — белое лицо в полутьме ванны, которая наполнена густо-алой, почти черной кровью. Одна рука свесилась через край ванны, и даже на ее фоне сияет удивительной, голубоватой белизной. На второй — Оля, висящая животом на заборе. Я не видела, но уверена, что ее смерть выглядела именно так — с треснувшего черепа сдвинулся скальп с белесыми жидкими волосами, которые после смерти перестали быть такими бесцветными. Они стали яркого красного цвета. Ей бы понравилось. И серебристый серпантин внутренностей, стекающих по забору. На последней картине был Андрей — распахнутая дверь в подвал, и сидящее в нелепой расслабленной позе тело. Наверное, таким его увидели те, кто ломал дверь — сидящим в углу под ржавыми мокрыми трубами, с которых капала на его лоб вода, оставляя на лице рыжий след. Белая половина лица, рыжая половина лица… Он был немного похож на грустного клоуна, там, на этой картине.
Я не стала забирать картины. Я вытащила их на середину мансарды и бросила на пол. Пусть их найдут. Свой портрет я оставлю на сундуке. Может быть, кто-то догадается, что связывало все эти смерти — ведь автор успел расписаться на картине. Я никому не могу рассказать. Я ничего не могу с собой поделать — пока я сидела в своей комнате и смотрела на картину, я успела заплести косы, и повязать два белых банта. Я сама не помню, как это сделала. Но сейчас я пойду в ванную и разберу бритву, чтобы лезвием перерезать узел на бельевой веревке. На лезвии будут засохшие кусочки мыльной пены и крошечные обрезки волос. Ничего, мне не противно. Мне все равно. Я все понимаю. Я ничего не могу сделать.
Дневник я положу в тайник — почему-то не могу оставить его на открытом месте. Так же, как я не могла рассказать обо всем маме. Но я нарисую стрелочку — там, под крестом. Это я могу. Ее найдут, я верю.
Прощайте и простите. Мне пора.
Док замолчал и посмотрел на меня. Тетрадь лежала перед ним в луче фонарика. Обычная общая тетрадь в черном клеенчатом переплете. История смерти. В доме стояла тяжела звенящая тишина.
— Вот, наверное, эта кладовка, — Док показал на небольшую дверь в стене комнаты
— Только не надо открывать! — взмолился я. Меня охватил липкий ужас, от которого слабеют ноги и трясутся руки.
— Надо, — сказал Док, — она не зря это писала, а мы не зря это нашли.
Он подошел к фанерной, оклеенной обоями двери. Гномики на обоях больше на танцевали с медвежатами — они вырывались, в ужасе крича, из медвежьих объятий, а медведи пытались их задушить… Как я сразу этого не понял? Мне было страшно. Мне никогда в жизни не было так страшно, но я подошел к Доку и встал рядом. Мне казалось, что иначе нельзя. Иначе это будет предательством погибшей здесь девочки, которая была нашей ровесницей.
Док рывком распахнул дверь и в ужасе сдавленно вскрикнул. На вбитом в стену крюке висела… нет, нам просто показалось. Никакой девочки. На ботиночном шнурке, привязанном к крюку, была повешена крыса. Перевязанная грязным белым бантом.
— Как он их ненавидел… — сказал Док тихо.
— Кого?
— Детей. Он ненавидел этих детей. Он учил их рисовать, а сам ненавидел и убивал — одного за другим.
— Но ведь его поймали и он покончил с собой?
— Не знаю. Мне кажется, что каким-то образом он все еще здесь.
В коридоре послышался быстрый топот и в комнату влетели Петька и Мозолевский. Их лица были перепачканы в пыли, но все равно бледны как смерть.
— Там, там… — Доллар никак не мог отдышаться, — там, действительно лестница наверх, а наверху мансарда, а там…
— Что «там»? — Док тряхнул Доллара за плечо, — говори!
Петька только сопел и вращал выпученными глазами.
— Там наверху, в мансарде, стоят посередине два мольберта, а на них две картины, — голос Мозолевского был неожиданно тихим и тусклым, как будто он не бежал по коридору, а лежал неделю с температурой сорок.
— На одной картине Петька, а на другой… На другой — я, — Мозоль смотрел куда-то в угол рассеянным взглядом. Казалось, он ничего вокруг себя не видел.
— Там мы на картинах, прикиньте! — у Петьки неожиданно прорезался голос, — только как будто взрослые уже!
— Взрослые… и мертвые… — на Мозолевского было страшно смотреть.
— Да, представляете? Я там на картине валяюсь в крови возле здоровенного мотоцикла, а Мозоль вообще непонятно где — пальмы какие-то и кактусы вокруг! И дырка у него во лбу! Может это кто-то пошутил, а? — закончил Доллар неожиданно жалобным голосом.
Мы с Доком смотрели друг на друга и молчали. Вдруг лицо Дока дернулось как от боли и стало совсем несчастным.
— Что случилось?
— Дерьмометр зашкалило. Линять отсюда надо срочно.
— Поздно, — тихо сказал Мозолевский, — слышите?
Мы услышали. Тоскливым криком застонала злосчастная лестница на второй этаж. В каком-то тошнотворном оцепенении мы стояли и слушали, как приближаются шаги по коридору. Почему-то не было сил пошевелиться, как будто все мышцы превратились в желе. Мы просто стояли и смотрели на дверь, ожидая, когда она откроется. В гулкой тишине дома зазвенел обыкновенный школьный звонок.
Открылась дверь класса.
— Здравствуйте дети!
Это же учитель пришел! У нас сейчас урок рисования. Мы в школе! Вот и парты, и доска на стене… Только почему где-то внутри тревожно колотится ужас?
— Садитесь!
Громко стукнули крышки парт. Мы сели. Учитель неторопливо прошелся возле доски, а потом подошел к своему мольберту. Из учительского стола он достал фиолетовый берет и фартук. Как идет ему этот берет! Сразу видно, настоящий художник! Он хороший учитель, добрый и веселый. Я знаю, на его уроках не будет скучно. Вот только в глазах его черными водоворотами крутится тьма… Если долго смотреть в эти глаза, то забываешь обо всем, и они всегда остаются с тобой. Кажется, я больше никогда не увижу ничего, кроме этих глаз.
— Тема сегодняшнего урока — художник и портрет. Чтобы стать настоящим художником, не достаточно уметь рисовать. Те, кто умеют рисовать, видят только лицо. Настоящий художник видит душу. Простой рисовальщик, каких много, нарисует жизнь — более или менее правильно, и только настоящий художник нарисует правильную смерть. Да, да, мы же говорим о портретах, правда? Об особых портретах, верно, ребята? Кое-кто уже знает о них много, остальные догадываются… Да, да они, конечно, догадываются… они еще не верят мне, они еще не понимают, что такое особый портрет…
Учитель коротко хохотнул и глаза его на миг вспыхнули черным пламенем. Он смотрел прямо на меня.
— Да, особый портрет. Как портрет этой маленькой крысы, Леночки Лазурской, да? Она считала себя художницей, маленькая дрянь, она пыталась что-то малевать! Все они такие! Приходят в МОЙ класс и хотят учиться рисованию… Ха, я их учил! По-настоящему учил! А чем платят, за настоящую учебу? А? Ну, кто ответит на простой вопрос? Какую я взял с них плату?
Голос учителя поднялся до пронзительного визга, который издает циркулярная пила, вгрызаясь в бревно и оборвался тяжелой тишиной. Он достал из стола школьный журнал и медленно раскрыл его.
— Ну что же, посмотрим по списку. Кто у нас сегодня получает приз? Кому достанется особый портретик? Палец его медленно полз вниз по строчкам журнала.
— Так, Лена Лазурская отсутствует. По уважительной причине, я надеюсь? Да, знаю, по уважительной — она забыла в кладовке бантик… Кто там следующий? А, Мозолевский! Ну, он уже сегодня отвечал, да… ему достался его приз, если вы понимаете. Да, особый портрет…
Меня охватила постыдная радость — я в конце! Я в конце списка! Может, урок кончится раньше, чем до моей фамилии доберется это испачканный красной краской палец?
Палец остановился, и черные стволы глаз поднялись. Он смотрел на Дока. На лице учителя появилась широкая улыбка, ощерившись рядом белых, как у черепа, и неестественно острых зубов.
— Ну-у-у, — протянул он…
И тут Петька Доллар как будто взорвался. Он вскочил с грязного пола, и морок сразу рассеялся — никаких парт, никакой доски. Только мольберт и темная фигура в берете на фоне окна. На полуразложившемся лице под лиловым беретом отчетливо проступили белые зубы, и только в глазницах продолжает крутиться тьма…
Вскочивший Петька рванул из за пазухи поджигник и, наставив его на черную фигуру, начал бешено чиркать коробком по запальной спичке.
— Ах ты… Ах ты тварь! — губы Доллара трясутся, — это ты их всех убил!
Чирк, чирк, чирк — коробок в дрожащих руках не попадает по головке.
— Ты не слушаешь меня? — темный силуэт у окна двинулся вперед, — придется тебя вывести из класса…
Чирк, чирк, чирк — спичка вспыхивает, но выстрела нет, только струйка дыма поднялась над запалом. Жуткий призрак медленно раздвигает руки, как будто хочет обнять Доллара и приближается, приближается… Петька зубами рвет коробок, спички летят веером на пол, он успевает одну подхватить и, ломая, сует в запальное отверстие, отступая шаг за шагом к двери.
Чирк, чирк, чирк — и вдруг стальная трубка ствола выплевывает полуметровый язык оранжевого пламени. От жуткого грохота закладывает уши. Окно, как будто выбитое пинком великана, вылетает на улицу, сверкая созвездием мелких осколков. В комнате повисает клуб белого дыма.
Пусто. Ни мольберта, ни художника. За окном розовеет полоска рассвета. Вдруг старый дом как-то весь вздрогнул и из щелей в полу поднялись струйки пыли. С треском рвущихся обоев по стене пробежала трещина.
— Прыгаем, быстро! — Док сориентировался первым.
Мы бросились к окну и дружно сиганули в заросли бурьяна. Бешеный бег до забора — и мы взлетели на него, как птицы. За нашими спинами, складываясь сам в себя, как картонная коробка, рушился Тот Самый Дом.


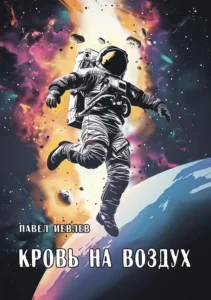
Очень интересно написано. Готова сделать электронную книжку для автора этого рассказа, если у автора есть несколько подобных рассказов.
У автора не только несколько рассказов, у него и книжка есть 🙂
http://semiurg.ru/kniga/